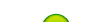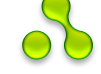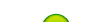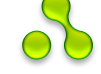Журнальный зал: Знамя, 2. И это без иронии, потому что — кому из тогдашних столичных мэтров были неинтересны Распутин с его “Последним сроком” или, навечно при своем “Синем море, белом пароходе”, Машкин? Те из сибиряков, кто в Москву не стремился, укреплялись в своих патриотических настроениях, находя в этом поддержку со стороны тех, что широко печатались в столице, однако при этом не менее широко вещали о неприятии ее разлагающего всякую живую душу бездушного бытопорядка. Между тем литературный Иркутск — это то же, что и литературная Москва: смесь глупости и мудрости, чистоты и нелепости, собрание судеб удачливых и разбитых, объединений вынужденных и случайных, фигур дутых или действительных, но понапрасну обойденных. Разумеется, провинциальные масштабы поменьше столичных, но от этого жизнь не легче, все только что помянутое переживается побольнее, а смотрится посмешнее. В конце сороковых, после известного доклада Жданова (его имени лишь несколько лет назад лишили Иркутский университет), в наш град, как и во многие прочие, пришла установка: выявить явления “ахматовщины”. Как наказали, так и поступили — пооглядывались, повздыхали, но, верные партии и правительству, призвали на собрание Елену Жилкину, дабы объявить ей: “Ты наша “ахматовка”. Та спорить не стала, “ахматовка” так “ахматовка”, тем более что, нежнейшая из смертных, она ни на возражения не была способна, ни на обиду — ей бы только своим прямым делом заниматься: птичке в любви признаться, улицу, которую дождем залило, пожалеть. По этой самой причине буквально на следующий день Иркутск прознал, что ходит по его улицам не кто- нибудь, а заблудившаяся в “ахметовщине” “ахметовка” Жилкина. Так и писали, так и поносили — за “ахметовщину”. А эта “ахметовка” — без жилья и зарплаты — дочку поднимала да все в любви признавалась. Может, поэтому — через некоторое время — явились к ней с первыми своими сочинениями Валя Распутин и Саша Вампилов, Петя Реутский и Володя Жемчужников. Здесь в первую очередь следует вспомнить нашу “Советскую молодежь”, или, как ее называли, “молодежку”. Там печатали свои первые рассказы Распутин и Вампилов, Машкин и Гурулев, Жемчужников и Шастин. Каждый из них еще и работал на эту газету: писал очерки, заметки, делал подписи к фотографиям. Этим же на полном серьезе занимались и наши поэты: та же Жилкина, которую считали своей литературной мамой Сергей Иоффе и Петр Реутский, Любовь Сухаревская и аз грешный. И первые вампиловские рассказы из Кутулика, которые он подписывал как А. Санин, и распутинские “Уроки французского”, его же “Не могу”, за которую бедная “молодежка” получила выговор, и самсоновские сказки, и критические размышления Тендитник и Трушкина, и стихи Марка Сергеева, как и публицистика Бориса Ротенфельда — все это наша общая газета, которой с некоторых пор не стало. Музыковед Сергей Румянцев о Константине (Котике) Сараджеве и. Цитирую по книге «Книга Тишины. Звуковой образ города» стр. 2 Румянцев С. Книга Тишины. Звуковой образ города. Сергей Хисматов. Арсения Ав- раамова. 2 Румянцев С. Книга Тишины. Звуковой образ города. Сергей Хисматов. Сергей Румянцев. Звуковой образ города» — посмертное издание, фактически фрагменты незаконченной работы. Сойдясь с желтой газетой “Номер Один” и назвавшись “СМ Номер Один”, она позабыла о тех, кто принес ей славу: вместо писательского слова — репортерские глупости, вместо стиха — сплетня. На заре перестройки, когда “молодежка” еще оставалась самой собой, возникла газета “Литературный Иркутск”, отдававшая целые полосы недоступным доселе текстам Бердяева и Трубецкого, горячей публицистике, нацеленной на возрождение православия, которой отдавали свои главные силы Распутин и Байбородин, Сидоренко и Забелин. Газета эта сделала свое доброе дело, впервые серьезно заговорив о тех ценностях, которые прежде практически не занимали советского человека. Книга, безусловно, представляет интерес для широкого круга читателей. Игорь Стравинский Вишневецкий, И. Вместе с тем было в этой газете то, что лично меня смущало: категорическое неприятие всего чужого, будь то живопись француза Пикассо или проза американца Фолкнера. С этой, повторяю, во многом нужной газеты началось у части иркутской интеллигенции недоверие ко всему, что не укладывалось в “русскую схему”, выдаваемую за “русскую идею”. Газета эта закончила свое существование, передоверив главные из своих тем — православие, народность и державность — газетам “Земля” и “Русский Восток”. Эти уже пошли дальше, чем стоило бы, — занялись врагами русского народа, жившими прежде и живущими сегодня. Потом появилась газета “Иркутская культура”, больше смахивающая на писательскую стенгазету, где самый разговор о культуре казался случайным и необязательным. Полтора года назад явилась газета “Зеленая лампа”, в рождении коей принимал участие наш Союз, который, как только добился своего, заявил о “Лампе” как органе, принадлежащем всем. Увы, Союз писателей России захотел и, как вы понимаете, сразу же обнаружил в ней масонские рога и русофобские настроения, а тех своих членов, что все- таки решились на публикацию в таком органе, подверг обструкции. Правда, последний — это уже проза интеллектуальная, с налетом постмодерна, с ненормативной лексикой и бесконечными периодами: его сочинение “Борхес и я”, опубликованное в “Дне и ночи”, наделало шуму и удостоилось предложения выдвинуть его на Букера. Что касается фантастики, то здесь себя пробовали и Борис Лапин, и Дмитрий Сергеев, и — новый и разноцветный — Александр Лаптев. Не могу пройти мимо Дмитрия Сергеева: он писал тех, кого любил: своих фронтовиков- однополчан, своих коллег- геологов, свои геологические маршруты и наш город. Он был реалистом в лучшем смысле этого понятия: всякая его книга может быть уподоблена путешественнику, отправившемуся на поиски правды. По этой причине часть вещей Дмитрия Гавриловича выходили или покореженными цензурой, или же с досадным опозданием, как случилось это с его романом “Запасной полк”, где правда о войне без единого выстрела, а смерть на войне — ничуть не физическая, а духовная. На следующий день стихотворцы извинились перед критиком, однако писать не перестали, более того, выпускают книжку за книжкой и грозятся однотомниками избранного. Что касается иркутской поэзии, то она, за редким исключением, жила в свое удовольствие — за привычные рамки не выходила, если что и делала хорошего, то, живя в привычных ямбах и хореях, раскрывала заявленную тему и трепетно заботилась о свежем эпитете или не слишком затасканном образе. Иван Молчанов- Сибирский, чье имя носит главная иркутская библиотека, возглавлявший иркутскую писательскую организацию в те времена, когда Елена Жилкина была наказана за “ахметовщину”, умудрился не остаться в нашей памяти ни одной строкой, талантливый Иннокентий Луговской забил свой талант “датскими стихами”, всегда при перышке и круглосуточно неутомимый Марк Сергеев несколько попортил физиономию своей симпатичной музы излишней правоверностью, бесспорно цельный и, несомненно, мудрый Сергей Иоффе был бы много убедительней, позволь он себе некоторую неправильность в поэтическом поведении. Оба сказочники, байщики, вечные дети, по- детски жившие и по- детски мыслившие, они одарили нас книжками, которые будут читаться и перечитываться. Впишем в их круг еще и Марка Сергеева, и Вячеслава Шугаева, и Анатолия Шастина, и Василия Стародумова, и, конечно же, Светлану Волкову, указав тем самым на еще одну нашу традицию — традицию выдумщиков, которая прямая родня нашему фольклору. Чуть в стороне от только что упомянутых — Федор Боровский, с его пристальным и непривычно строгим взглядом в отроческую душу, с его неожиданной для всех последней книгой, военной вещью, где сюжет едва проглядывает сквозь аллегорию, где на небесах встречаются русский и немецкий солдаты, не сумевшие победить один другого в бесконечном бою, случившемся на сельском кладбище. Очерк творчества”, Валентин Распутин выступил в местной газете с заявлением, по которому выходило, будто “либерально настроенная интеллигенция устроила самый настоящий террор патриотически настроенной интеллигенции”. Перед этим мы встречались с Валентином Григорьевичем на предмет сотрудничества и, как мне казалось, в равной мере желали в ближайшем будущем цивилизованного разговора по волнующим нас проблемам, планируя возможные совместные акции и тому подобное. Перед этим я захлебывался от счастья, читая его новые рассказы, без конца цитируя строки его чудного “Видения”: “И вдруг каким- то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, гдестынут березы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!”. В те давние уже времена, когда мои старшие товарищи были все до единого живы и, за редким исключением, молоды, когда союз наш насчитывал чуть больше двадцати человек и руководил им мягкий и всепрощающий Марк Сергеев, я был влюблен в каждую их книжку, еще не дописанную или уже покореженную цензурой и вставшую на мою полку. Я до сих пор люблю — не могу отказаться — прозу Распутина и Машкина, некоторые строки и даже стихотворения Михаила Трофимова и Василия Козлова (да, да, того самого, что с некоторых пор полюбил “сионские протоколы”), я никогда не позабуду той радости, что случилась со мной после первой встречис прозой Альберта Гурулева и Евгения Суворова. Однако сегодня, как говорит в том же “Видении” Распутин, уже работающий в комиссии по губернаторским премиям, заодно с академиком- экологом и академиком- куроведом, плечом в плечо с недавним лидером коммунистической идеологии и нынешним — дамского сообщества, сегодня “я со вздохом ставлю себя в новое положение”. При этом новом положении я пытаюсь понять, что разделяет меня с недавними моими товарищами, что, между тем, по- прежнему для меня дорого в них и в их сочинениях. Я по сей день не могу избыть того чувства, которое ведет меня от одной книжки к другой — того ощущения, из которого следует, что всякий пишущий — это мой брат, всякая сочинительница — сестричка: и они живут словом и из- за слова, и я. Все мы некогда впервые услышали, а потом прочли Пушкина, впервые заболели Есениным и Заболоцким, Толстым и Достоевским, Лесковым и Булгаковым. Все мы помним об этих своих влюбленностях, пытаемся даже сказать об этом.
|