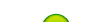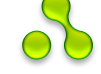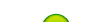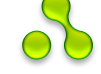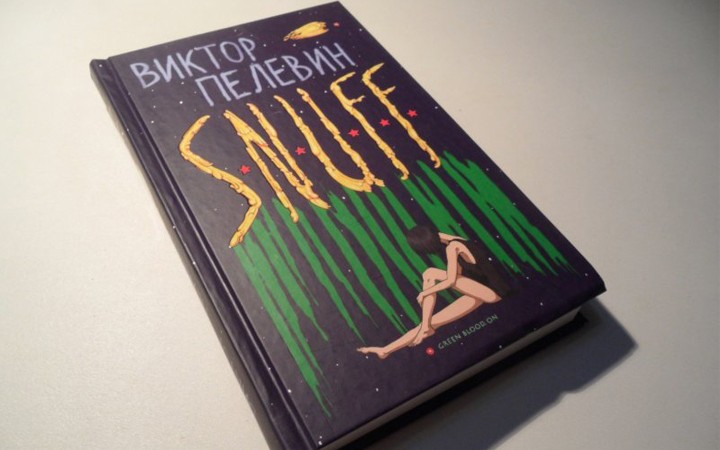
Ирина Роднянская: Прав был Солженицын – Бога забыли, отсюда и кризис. Литературная премия Александра Солженицына за 2. Ирине Роднянской «за преданное служение отечественной словесности в её поисках красоты и правды, за требовательное и отзывчивое внимание к движению общественной мысли на фоне времени». Автор многочисленных научных и критических работ.– Ирина Бенционовна, поздравляю вас.– Спасибо. Книги и статьи Александра Исаевича для меня и многих моих друзей были глотком свежего воздуха. Без преувеличения можно сказать, что до перестройки мы жили вестями и указаниями от него (читали его тогда, разумеется, в сам- и тамиздате). - Бывший народный депутат Украины Ирина Бережная погибла из-за того, что водитель автомобиля, на котором она передвигалась на .
- Статьи и эссе, составившие сборник «Вопросы чтения», входят в круг интересов Ирины Бенционовны Роднянской - одного из самых авторитетных современных филологов и критиков.
- 128 статей, 14 книг, 40 докладов на конференциях, 3 НИР, 4 награды.
- БорФеда: Сборник в честь 90-летия Бориса Федоровича Егорова / ИРЛИ РАН; СПбИИ РАН; Ред.- Вышли статьи . Литературная Премия Александра Солженицына 2014 года присуждена Ирине Бенционовне Роднянской «За преданное.
Конечно, для меня эта премия – большая честь.– А когда вы впервые узнали о репрессиях?– Моего деда расстреляли в 1. Мне тогда было три года, но я помню дедушку – он даже научил меня, трехлетнюю, читать. Обыска и ареста не помню – наверное, меня в этот момент куда- то увели, – но облик дедушкин, его голос запомнила. Семнадцатилетний народоволец, младший из группы Веры Фигнер. Я, как вы понимаете, не сочувствую взглядам народовольцев и, тем более, их действиям, но это мой дед – с материнской стороны. Уже в советское время он с семьей жил в Харькове, в доме политкаторжан – почти в каждой квартире жили эти бывшие деятели. И я родилась и до войны жила в этом доме. В 1. 93. 7- 3. 8 их всех замели. Когда забрали деда, мама кинулась в Москву к Ворошилову, с которым дед был знаком по подпольной работе в Луганске. Но к Ворошилову она не попала, пошла к какой- то большой шишке в генеральной прокуратуре (фамилии не помню, он вскоре тоже попал под раздачу), – он ее принял и посоветовал не связываться с «этой толпой» просителей, потому что всё равно ничего не получится. Потом семье сообщили, что дед получил 1. Вот наше семейное предание, вполне достоверное. Так что я рано стала относиться критически к окружающей действительности, но в основном не к политике, а к затхлой мещанской жизни. А лет в 1. 7 я была уже законченным. После окончания в 1. Московского библиотечного института (теперь это Университет культуры) я во время распределения выпускников выбрала Кемеровскую область, помня об эвакуационном детстве в Кузбассе, и после некоторых трений попала в Сталинск (Новокузнецк), где еще с войны сохранялась память о моем отце – замначальника эвакогоспиталя по медчасти. Работала в центральной городской библиотеке и развернула там оттепельно- «оппозиционную» деятельность – устраивала читательские конференции по новым правдивым, как я чувствовала тогда, книгам, например, по «Жестокости» Павла Нилина. Особенно нашумела встреча в Дворце культуры КМК (Кузнецкого металлургического комбината), где мы с инженерами и рабочими обсуждали роман Дудинцева «Не хлебом единым». За эту встречу заведующая Дворцом культуры получила строгача. А она принимала в партию моего отца. У него во время войны был патриотический подъем, и он вступил в партию, о чем потом очень жалел. Заведующая эта – чистая душа (коммунизм как идеологию я не приемлю, но среди рядовых коммунистов было немало честных и искренних людей). И она после этой истории буквально умоляла меня вступить в партию, чтобы укрепить моим правдоискательством их партийные ряды. Помимо хитов Ширяева, фундаментальной статьи Щербининой, вошедших в историю. Pocket-конференция в честь Ирины Роднянской – безусловное. Данила Давыдов. О “потенциальной поэтике” раннего Георгия Оболдуева // Вопросы чтения : Сборник статей в честь Ирины Бенционовны Роднянской. Бак Д.П., Губайловский В.А., Сурат И.З. Статьи и эссе, составившие сборник 'Вопросы чтения', входят в круг интересов Ирины Бенционовны Роднянской - одного из самых авторитетных современных филологов и критиков. Но я отбилась, найдя иезуитские отговорки. Тогда, в 1. 95. 7 году, я уже точно знала, что это враждебная мне сила.– Вы во время войны тоже были в Сталинске?– Да, в Сталинске. Вернее, сначала мы с мамой оказались в эвакуации под Уфой, в поселке Давлеканово, и не знали, сделают харьковский Институт эндокринологии, где работал папа, полевым или эвакогоспиталем. Сделали эвакогоспиталем, и он прислал за нами нарочного, который забрал нас в Сталинск. Я сразу пошла во второй класс. После войны мы в Харьков не вернулись – когда отца демобилизовали, его направили в Черновцы на организацию мединститута. Застала и борьбу с бандеровцами. Конечно, мы их боялись, я отнюдь не сочувствую их нынешним наследникам, о которых известный политолог Сатановский на днях метко сказал, что Киев захватила дивизия «Галичина». Но я знаю предысторию. Когда мы приехали в Черновцы, это был цветущий город, вдоль дорог шпалерами стояли фруктовые деревья – кто хотел, подходил и срывал. А до войны, входя в состав Румынии, Черновицкая область снабжала яйцами всю Вену. К СССР Северную Буковину с Черновцами присоединили в 1. Там провели коллективизацию – в 1. Во время борьбы с бандеровцами было сожжено много деревень, их жителей насильственно переселяли в Донбасс. Румыны бежали еще во время наступления Красной армии, потом город, как только открыли границу с социалистической Румынией, покинули местные евреи, составлявшие очень значительную часть горожан, и разъехались в Израиль или в Западную Европу, в США. Я в школьные, в студенческие годы, да и после наездами исходила всё Прикарпатье, бывала в Закарпатье, взбиралась на Говерлу – главную вершину Карпат на территории СССР. К нашим туристическим вылазкам гуцулы относились вполне гостеприимно – мы с ними говорили по- украински. Иногда они смело вспоминали, «що за Румунi. Запомнился мне один эпизод. В нашем дворе жила замечательный в будущем филолог, а тогда школьница старших классов Римма Панюшкина, и она нас, детей, часто собирала, читала нам вслух или пересказывала что- то из классики, например, «Страшную месть» Гоголя. И вот однажды иду я с ней по улице, и какой- то мальчишка дразнит меня – кричит: «Саг’г’а, Саг’г’а». Она подошла и отвесила ему пощечину, он тут же замолчал. Но это именно эпизод. С государственным антисемитизмом мы столкнулись позже. Когда началось «дело врачей», папа очень боялся, что к нему придут с обыском. Бывшие хозяева нашей квартиры, румыны, когда бежали, оставили большую коробку бисера, чему я как девочка была очень рада, и книги на немецком языке. Хотя родители мне нашли преподавателя по немецкому, я отказалась учить «язык врагов» и стала учить английский, но к книгам относилась щепетильно. Дивно изданные томики Жюля Верна я, филателистка, аккуратно использовала как кляссеры. А как только начались первые признаки преследования врачей- евреев, папа все эти книги стал рвать и бросать в камин – он боялся, что у него найдут издания на немецком языке. Помню, как я, дурочка, орала: «Ты трус, ты трус!». Это было сильнейшее идеологическое впечатление у меня- школьницы. В итоге папа не пострадал, а вот маме пришлось уйти из музыкального училища, где она преподавала вокал. На нее пришел донос, что она специально учит студенток- евреек хорошо, а русских плохо. Всё к лучшему – уйдя из училища, она организовала при местном Дворце культуры Народный оперный театр, который потом давал «Бориса Годунова» в Кремлевском дворце в Москве и получил одобрение Козловского.– Папа – врач, мама – преподаватель вокала, а вы выбрали филологию.– До 8 класса я хотела быть химиком, меня даже дразнили в школе Ирэн Кюри. Увлеклась химией под влиянием прекрасной книжки Нечаева «Рассказы об элементах». Говорят, ее переиздавали, но я ее теперь найти не могу. Но и читать я всегда любила, родители были отлично знакомы с русской литературой, наш дом был книжный, отец как известный в городе врач имел некий блат в книжных магазинах, так что и классика, русская и переводная, и кое- что из новинок собиралось специально для дочери. В 8 классе я стала зачитываться Белинским и тут- то твердо решила, что стану литературным критиком. Учиться в вузе отпустили в Москву. Правда, в МГУ я подала документы на философский. Пришла в приемную комиссию, вижу: у столика на филологический огромная очередь, а на философский почти никого. У меня как у серебряной медалистки было преимущество – не экзамены, а собеседование. Посмотрела предметы, изучаемые на философском, – батюшки! Не только гуманитарные, но и математика, и биология – мои любимые! И подала туда документы. Собеседование должно было выяснять, как мне сказали при их приеме, общий культурный горизонт. Но меня спросили о кризисе современной физики по работе Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», которую я, естественно, не могла тогда знать (ее проходили даже не на первом курсе этого факультета). Ну, забрала возвращенные документы и. Туда меня как медалистку приняли без экзаменов и собеседования. Значок выпускника МГБИНа факультете культпросвета училось несколько мальчиков, среди них будущий известный поэт андеграунда Леня Чертков (ныне покойный), но он с девицами, полностью преобладавшими на библиотечном и библиографическом факультетах (потом слитых), не общался. В общем, это и был институт благородных и не очень девиц, преимущественно приезжих. Мне не досталось места в общежитии, и я снимала угол в Москве, поэтому больше дружила с москвичками – мы вместе ездили в институт и обратно на электричке. В институте было много хороших преподавателей, которых в пору борьбы с космополитизмом выдавили из более престижных вузов. Я вступила в студенческое научное общество и написала там свои первые работы – о поэме Асеева «Маяковский начинается» и об «Оттепели» Эренбурга, послала их на четвертом, последнем, курсе на конкурс в Литинститут. Меня не приняли на том основании, что два высших гуманитарных образования государство не может позволить (хотя я подавала на заочное отделение), но работы, судя по всему, кому- то из комиссии понравились, и их передали в «Литературку». Валерий Алексеевич Косолапов, тогда зам главного, вызвал меня, удивился, увидев, что пришла какая- то пигалица, и спросил, откуда я и что мне нравится из новых стихов. Я была девочка провинциальная, не знала того, что успели узнать москвичи из культурных семей, и сказала: «Мне всё не очень нравится, но вот в “Литературной Москве” опубликованы стихи какого- то Заболоцкого, они мне понравились, они настоящие». Он посмотрел на меня удивленно и заказал мне статью для «Литературки». Это было в 1. 95. Статья была о Заболоцком?– Нет, о Заболоцком я написала через два года, уже в Сталинске, и опубликовалась в «Вопросах литературы», но отказываюсь от той статьи, никогда ее не включаю в свои книги: у меня тогда еще были сугубо материалистические взгляды, и они нашли там выражение. А Косолапов мне заказал статью о повести Сергея Павловича Залыгина «Свидетели», очень либеральной по тем временам. Валерия Пустовая. Избранные записи из социальных сетей. Часть I » Лиterraтура. Электронный литературный журнал. О литературе и критике. АБСОЛЮТНЫЙ ХИТПровела со студентами семинар по ругательной критике. Как и надеялась, на него пришли вчетверо больше человек, чем на предыдущий семинар по критике поэтической (а впрочем, все равно вдвое меньше, чем числятся в группе). Помимо хитов Ширяева, фундаментальной статьи Щербининой, вошедших в историю бросков Топорова, хрестоматийных вздохов Анкудинова, пикировки Агеева с Ремизовой и подобных аттрактивов, пригодилась и недавняя статья Кузьменкова про Алису Ганиеву, благодаря которой разговор подошел к проблеме разграничения личных чувств и литературной страсти. Пришлось признать, что пока нигде, и в обмолвке о красном платье, видимо, проскользнули мои собственные недостойные чувства. К концу семинара был выведен образ идеального критика, которому красное платье было предписано столь же строго, сколько бескомпромиссность, и стало ясно, над чем еще самому Кузьменкову предстоит поработать. Что касается альтернативных критических пиар- стратегий, сами студенты признались, что сочтут за благо: а) побить критика, который напишет плохое, б) просто плакать, в) просто быть истеричкой, г) всех благословлять, д) к тому времени я просто вас всех уберу. Следующий семинар планируется посвятить уже собственным эссе студентов об именитых критиках. В ответ на мое пожелание присовокупить к эссе и попытку пародии на критика, вообразив, скажем, его рецензию на какое- нибудь общеизвестное произведение, один юноша, выбравший в герои Ширяева, остроумно задумал представить, как бы Василий написал про кино – потому что, сказал, для него это будет более органично. КРИТИКУ ПРОЩАЕТСЯУрывками и вразброс читаю изданный «Временем» «Голод» Александра Агеева и вспоминаю задевшее меня высказывание покойного Григория Дашевского – в интервью Левада- центру: люблю, говорил Дашевский, читать критиков, которые меня «бесят»; вот, например, Роднянскую – как она хвалит Херсонского – читаю, мол, и бешусь. В книге, собранной из выпусков авторской рубрики Агеева, много именно бешенства, профессионального раздражения на идейные и вкусовые склонности коллег. В том числе и мне, например, близких, и мною уважаемых. Но сейчас, когда причуды критического «голода» сложились в метки завершенного литературного пути, думаю: это ли важно? Раздражение ли остается от критика? Репутация раздраженного? Недооспоренные коллегами ярлыки? Кармичная профессия – критик, приговоренная судить, а все же осуждение – главное, что прощается по уходе. Экспертная оценка считается первым долгом и импульсом критики, но запоминается об эксперте что- то другое, последнее. Сама энергетика отклика, следы присутствия в литературе, оставленные по возвращении с премиальных тусовок, в простуженной хандре или озорстве провокации. Виртуальная лента личности, о которой с горечью пишет во вступительном слове к «Голоду» Вячеслав Курицын. Не соприкасается, жалеет Курицын, наше онлайн- бытие с реальностью. Не ловится, говорит, мастерством колумнистов жизни суть. Жизнь не результативна, не клюет на итоги и списки, не нумеруется выпусками рубрик, не принимает стороны. В книге «Голод» жизнь не в книгах, пусть многие из них до сих пор составляют непременный контекст критического суждения. И не в сентенциях про русскую жизнь, наконец – одобрял Агеев – свернувшую с прописных путей. Она в моментальных, отзывчивых колебаниях человека, доверявшего качке времени. Героем дня выбран Евгений Алехин с книгой «Третья штанина». Эффектное красное пятно обложки венчает колонку критика, которая тоже – растекается пятном. У Мильчина по поводу Алехина есть одна, но здравая мысль: «Алехин дает неплохой портрет поколения, родившегося в 8. То ли эта мысль не требует развития, то ли социальный смысл литературы Мильчина совсем мало занимает, но остальной текст – несколько абзацев, половина полосы – отведен под воспоминания о похмельной тошноте, в которой критику пришлось читать книгу молодого автора. Многолетний спор о разнице между «обозревателями» и «критиками», между критикой рекомендательной и аналитичной, может быть, и не имел смысла. Граница пролегает в другой стороне. Мне понравилась позиция Марты Кетро, которая в одной из своих книжек так высказывается о творчестве и вечности: «Не продается искусство – перейду на ремесло, все равно его отделяет пропасть от халтуры, которая действительно постыдна». Раньше бы, по неопытности, сказали: посвящать колонку тому, что «Сумерки» Глуховского хорошо читать на темной кухне, а похождения автогероя Алехина – с похмела, – приемы обозревательской критики. А теперь я думаю, что – не вполне добросовестной. И никакой формат тут ни при чем. Думаю, полоса Мильчина только выиграла бы, если бы он довел до конца метод, к которому явно склонен: сокращая критическое высказывание, надо ужать его до слогана.«Книга о поколении 8. Третьей штанины». И без наверченной на нее критической лирики о местах и состояниях чтения это впрямь был бы критический шедевр. КРИТИКА – ЭТО ХАРАКТЕРНа презентации книги «Критика – это критики. Сергея Чупринина просили назвать критерии и показать жену. Снова, значит, подтверждая, что критики – тоже люди. Человеческое в героях книги («психологические портреты» – выразилась Ольга Балла) было Чуприниным не только акцентировано, но и заострено. Когда он, отвечая на вопрос о критериях выбора героев (а жену так и не показав), заметил, что вот, например, не написал об уважаемом им критике Алле Марченко – потому что так и не смог понять ее «характер». Книга критических портретов – вариант разгадки: что остается от критика по завершении карьеры, а то и жизненного пути? Говаривают: у критика ничего, кроме репутации. Вот антиномия критического самоопределения: репутация – или характер? Вариант: стратегия – или личность? Выбор тем более трудный, что предполагает противоположные стратегии выживания критики сейчас, когда про нее думают, что умерла (вот и хозяин площадки, директор Литературного музея Дмитрий Бак откликнулся на чупрининское: «Ну что, поживем?» – «Нет, не поживем».)Вызванная говорить к концу вечера и успевшая многое передумать, пока слушала, я все- таки предположила не конец, а трансформацию. В свете этой трансформации характерен, например, стиль самого Сергея Ивановича, все более характерного и прихотливого, все менее настаивающего на репутации («сеть юмора», «нет апологетики» – точно заметила Роднянская). Критика профессиональная определяет себя в потоке любительских откликов, либо разгоняя до предела личностное присутствие в чтении, переживая литпроцесс экзистенциально, либо предъявляя себя репутационно, назначая «правильные» с точки зрения движения литературы книги («важные» – как принято теперь выражаться; «живые» – как принято было выражаться еще вчера). Как, например, Евгений Ермолин – с одной стороны (сам себе литпроцесс), и Игорь Гулин – с другой (сам себе литературовед). Вокруг названного мною критика Гулина немедленно возникла полемика с Марией Ремизовой о возможности «объективной» позиции в критике. А рядом с книгой Чупринина неизбежно обозначились два ключевых высказывания – статьи Владимира Губайловского «Конец эстетической нейтральности» и Евгении Вежлян «Почему литкритика боится терминов». Хочу публично извиниться перед Женей Вежлян за то, что некорректно охарактеризовала ее статью – надеюсь, тут же и поправила дело, объяснив, что, как мне кажется, в статье не удалось передать точное представление о задаче новой, «не классической», по выражению Вежлян, критики. Однако ее статья, написанная в ходе полемики с очерком Сергея Чупринина о Кукулине, саму необходимость обновления этой задачи – обозначила, а это наиболее ценно. Книгу Чупринина на вечере многие призывали продолжать. Критерий отбора героев для такой, продолженной, книги портретов, мне кажется, ясен: не те, кто задели за живое автора- портретиста («пишет о тех, кто задел», – догадалась о Чупринине Балла), а те, кто сами задеты – временем. Самоопределение критика во времени выражается трансформированными, «не классическими» – для него самого прежде всего – самоопределением, задачами, стилем, обращением к читателю. Сергей Чупринин сегодня презентовал тридцатилетнюю историю своей трансформации. Не результат то есть, а – процесс становления. Как хорошо, что для становления нет возрастов. Ни поколений, ни стратегий. Вечно становящийся критик – герой теперешнего литературного дня. О нем и писать новую книгу портретов. ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ КРИТИКАБывает, что и от слов к делу, а не наоборот, как обычно у критиков. Из личной жизни критика поделюсь. Ничего бы не было, если бы не один человек, – сказал Антон Понизовский, открывая кулуарное празднование премьеры спектакля по своему роману, – и пластиковым стаканчиком на меня показал. Сказать точнее – одна статья, посвященная сразу нескольким героям литературы и сцены (вышла год назад в «Свободной Прессе»). Склонность сочетать разноплановые или разграниченные явления в один смысловой контекст – мой критический пунктик. Рифмы реальности вдохновляют. Но поиск таких созвучий, складывание направлений порой и мне самой кажутся избыточными. И вот оказалось, что хотя бы в данном случае не напрасно решила опереться на трех китов – Богомолова, Понизовского и Д. Брусникина, – потому что, встретившись в одной статье, двое последних как раз и познакомились. И роман был прочитан его будущим режиссером. В той статье не было эпитетов по адресу моего романа, – продолжал Понизовский, – но я почувствовал себя как женщина, которой комплиментов не говорят, зато дают понять, что с ней радостно пребывать в одном контексте. Замечание вполне в духе его романа «Обращение в слух», где слова и оценки – основное, чему нельзя доверять. Будучи женщиной, припомнила, что ведь и правда комплимент – ключик к окошечку, а не к дверце. Женщина, как и роман, не нуждается в оценках. А в том, чтобы в свете ее хотели жить. И в выбранный контекст помещали. РАСКОЛ И ВЛАСТЬ: о направлениях критики.
|